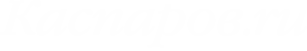В предисловии к русскому изданию своей знаменитой книги «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» Марк Ферро написал: «Именно в вашей стране сегодня, как нигде, высоки ставки истории». Владимир Путин в Ново-Огареве попытался определить эти ставки, выступив в не вполне привычной роли интерпретатора отечественной истории. Ранее Владимир Путин лишь в исключительных случаях обращался к событиям прошлого. По большей части его комментарии касались Великой Отечественной войны. Суть их сводилась к одному тезису: "Давайте не будем касаться святого!" Для сегодняшней власти Великая Отечественная война стала важным ресурсом собственной легитимации. Власть пытается рассматривать себя (другой вопрос – насколько это хорошо, а главное, искренне получается) в качестве наследника всего славного, что было в прошлом. Несколько раз Путин (правда, мельком) обращался к исторической компаративистике, говоря о том, что сравнивать гитлеризм и сталинизм нельзя, что если первый – абсолютное зло, то последний – относительное. Иногда Путин старался обосновать еще один тезис. Накануне принятия очередного михалковского гимна (2000 год) президент России заявил, что не все было однозначно в советской истории, и что одной лишь черной краски недостаточно для ее изображения. Потом были слова о распаде СССР как величайшей геополитической катастрофе XX века и о том, что учебники «должны воспитывать чувство гордости за свою историю, за свою страну». И вот, наконец, в июне 2007 года президент Путин решил углубить свой вклад в развитие методологии и теории российской истории.
Об этом "вкладе" можно было бы и не писать подробно. Отдельные исторические наблюдения президента или премьер-министра какой-нибудь европейской страны, скорее всего, не попали бы даже на первые полосы газет. Их сочли бы за частное мнение того или иного гражданина. Конечно если речь не идет об исторических экзерсисах, затрагивающих историю пограничных споров или событий Второй мировой войны. Например, заявление Леха Качиньского о том, что без немецкой оккупации в 1939-1945 гг. население Польши было бы значительно больше, и потому нельзя прямо увязывать численность населения страны с ее весом в принятии решений Евросоюзом, вызвало неоднозначную реакцию и в Германии, и в других странах ЕС. Такого рода экскурсы, конечно, имеют общественный резонанс. Однако в любом случае выводы того же Качиньского (равно как и исторические откровения Сильвио Берлускони о том, что не все так плохо было в период дуче) не станут предметом изучения для преподавателей истории на специальных методических семинарах. Региональные департаменты образования не будут руководствоваться ими, как "официальной линией партии". В России же сегодняшнего дня и чиновники, и учителя (особенно в региональных средних школах, испытывающих дефицит учебно-методической и научной литературы) будут воспринимать оценки Путина если не как прямое руководство, то как значимый фактор, который необходимо "учитывать в работе с молодежью". Легко вспоминаются соответствующие штампы советской эпохи. Похоже, мы ушли от них не слишком далеко.
Попытаемся проанализировать путинские "исторические тезисы» содержательно, предварив анализ буквально несколькими словами об "атмосфере праздника", царившей на конференции. Сколько раз на этом форуме вспоминали "железного канцлера" Бисмарка с его фразой о прусском учителе, выигравшем войну… Правда, почему-то никто из профессиональных историков не попытался продолжить "ход истории" и не вспомнил, что это же учитель весьма "помог" Германии развязать две мировые войны.
Образ этого прусского учителя дал Эрих Мария Ремарк в "На Западном фронте без перемен". Учитель Канторек, постоянно обращавшийся к "прусскому духу", впоследствии сам оказался в рядах "непобедимой армии" и на своей шкуре испытал "благодарность" учеников, успевших понять, что казенный патриотизм и реальная война – это "две большие разницы". Увы, о злоключениях патриотичного Канторека на Западном фронте тоже никто не вспомнил. Рано как и о плодах тысяч таких "кантореков": поражении, Ноябрьской революции, Веймаре, нацизме и Второй мировой войне. Так что потом уже другие учителя (не прусские по духу) заставляли немецких юношей каяться за содеянные злодеяния. И те делали это сами, не только и не столько по воле оккупационных властей.
Владимир Путин не считает возможным ни за что каяться. С его точки зрения, у России "есть многое, чему поучиться". Само по себе педалирование этого тезиса говорит о комплексе неполноценности. Уважающая себя страна, лидер, не сомневающийся в своем статусе, не будет на каждом углу твердить о том, что у нее можно чему-то поучиться. Так делают лишь молодые, растущие страны (те же США или государства, которые освободились от колониальной зависимости).
"Россия – страна, у которой есть выработанные веками принципы взаимодействия между конфессиями, народами, выработанные на генном уровне. Наши религии даже отличаются от традиционных стандартов христианства и ислама, так как они приспособились существовать на одной территории, под одним небом", – заявил Путин. Но разве азербайджанский ислам – это точная копия саудовского, а пакистанский и турецкий – одно и то же? Разве сербская православная церковь не призывала в XIX – XX веках бороться с православными же болгарами, ставя этнический фактор выше религиозного? Что принципиально нового дала в этом плане Россия? Опыт межконфессионального мира был и в нелюбимых многими США, и в отдельных европейских странах. И, напротив, в России один только церковный раскол XVII столетия унес жизни тысяч людей. Да, и что такое "генный уровень"? Разве открыт какой-нибудь «ген этничности»? Взаимоотношения между конфессиями, между представителями различных этнических сообществ зависят не от генов, а от многих культурных, социальных, политических, экономических факторов. Да и само этническое, конфессиональное, государственное разделение не запрограммировано генетически. Всякое же биологизаторство в истории заканчивается плохо.
Когда я слушал и читал путинские исторические откровения, меня не покидала мысль, что проблема не в идеологической направленности сказанного. Путин мог выступать с либеральных, консервативных, коммунистических или анархистских позиций. Критиковать его (равно как и любого другого лидера) за идеологическую ангажированность было бы не то, чтобы неправильно. Это просто была бы демонстрация другой идеологической ангажированности. Весь ужас заключается в том, что президент России говорил как обыватель. Не как законодатель правил исторической науки, не как отец нации, который может позволить себе и раскаяние, и признание исторического груза ответственности, а как обычный фрустрированный обыватель.
Конечно, можно все свалить на издержки пиара. Мы ведь так хотели, чтобы наш лидер был "таким же, как и мы". А потому мы слышим не новую повестку дня, не взгляд в будущее, учитывающий ошибки прошлого, а рассуждения в духе "у вас негров линчуют".
Путин признает, что у нас был 1937-й год (отдельный вопрос, что большевистские репрессии проводились далеко не только тогда). Но, признавая это мимоходом, Путин далее произносит целую тираду о том, что "в других странах пострашнее еще было. Во всяком случае, мы не применяли ядерного оружия в отношении гражданского населения. Мы не поливали химикатами тысячи километров и не сбрасывали на такую маленькую страну в семь раз больше бомб, чем за всю Великую Отечественную войну".
Но где критерии «страха»? Что значит "у них было страшнее"? И какое, в конечном счете, мне, российскому гражданину, дело до того, как этот страх воспринимается там, у них? Я хотел бы, чтобы у нас, в России, признание вины не рассматривалось как проявление слабости власти и общества. Кто может измерить уровни страха? И как вообще можно измерить людское горе?
Есть и более «циничные» замечания. США бомбили и сбрасывали химикаты на иностранное государство. Это преступно? Безусловно! Но что делала Красная Армия в ходе подавления антоновского восстания на Тамбовщине? Против какого внешнего врага было тогда использовано химическое оружие? Против собственного крестьянина.
И замалчивать это сегодня – значит, потворствовать цинизму, считать, что любая власть (если уж она власть) может сделать со своими гражданами все, что захочет. И это должно быть записано ей в актив на одном только основании: эта власть – "наша". А все "наше" (и Иван Грозный, и Ленин со Сталиным, и НКВД) свято уже в силу того, что оно наше, а не привнесенное извне (хотя марксизм появился и не на Рязанщине). В этом и есть главный пафос концепции "суверенной демократии", которую теперь нам предложено транслировать в школьные учебники по истории. "Да мало ли что было в истории каждой страны и каждого народа! Нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины!" А разве у самого человека не может естественным образом, без советов заокеанского дяди, возникать чувство вины и ответственности за содеянное, а как следствие, и раскаяние? Непонятно, как человек, считающий себя православным христианином, может отрицать необходимость раскаяния и признания собственных грехов, считая это угрозой суверенитету.
Однако помимо того, что предложенный подход к истории чрезвычайно обывательский, он еще и инфантилен по самой своей сути. Фактически российским гражданам предлагается отказаться от ответственности (и за историю, а посредством обращения к истории – и от ответственности за все актуальные поступки). Это и есть инфантилизм, который превращают в краеугольный камень нашей идентичности. Что бы мы ни сделали (в прошлом или в будущем), мы правы, потому, что это мы, "самые суверенные в мире", которым никто не в состоянии ничего навязать.
Но инфантильные обыватели не могут стать ответственными гражданами, способными защищать свое Отечество, нести ответственность за свой выбор и выбор своей страны. Горланить на митингах и закидывать тухлыми яйцами посольства – это не то же самое, что осознанно и ответственно защищать Родину. Ведь если у Родины нет ответственности за граждан и за свою собственную историю (поскольку в ней все было хорошо, а все злодеи не являются таковыми потому, что они "свои"), то какая же ответственность может быть у тех, кто живет здесь, на этой земле, у самих граждан?
Инфантильный обыватель не способен быть патриотом, он может лишь защищать свой "суверенный" кусок "жизненного пространства", отгородившись от прямо не касающихся его проблем. Таким образом, "суверенная демократия" опускается и на более низкие уровни, формируется своеобразная вертикаль: наверху инфантильная власть, а внизу инфантильные граждане. Только укрепляет ли эта вертикаль истинное величие России?
Оригинал статьи опубликован на сайте www.polit.ru